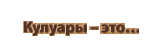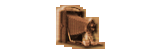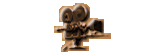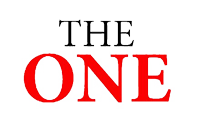Ирина Лисова: «Культурная оккупация детской литературы обострилась с началом СВО»
- Подробности
- Создано: 04.08.2025 12:11
- Просмотров: 53
![]()
Интервью с Ириной Лисовой – журналистом, писательницей, биографом, литературным критиком и обозревателем, экспертом по современной детской литературе и детскому чтению, членом секции Истории воздухоплавания, авиации и космонавтики СПбФ ИИЕТ РАН.
ТГ-канал — «Книжный лис Z»
— Здравствуйте, Ирина Александровна. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям немного о себе.
— По образованию я филолог. Окончила Мурманский государственный педагогический институт. Моя специализация — учитель русского языка и литературы. Правда, работала я не совсем по ней, после курсов переподготовки стала учителем начальных классов, в школе в общей сложности проработала пять лет, дальше не сложилось. Ушла в журналистику, которой до этого занималась как хобби. И вот уже больше 10 лет работаю в СМИ.
— Как Вы пришли к писательству? Что вдохновило Вас начать писать для детей?
— Быть писателем — мечтала с детства. А вот писать для детей… Сначала мне посоветовал себя попробовать в детской литературе Вячеслав Пьецух, он был мои первым мастером на форуме молодых писателей в Липках. А дальше —повезло с учителями. Эдуард Николаевич Успенский, хоть был очень строг в разборах текстов, решил со мной работать. Я показывала ему свои рассказы, повести. Мы общались до самой его смерти. И, наверное, его, в первую очередь, я могу назвать своим учителем.
— Ваша книга «Девочка, которая хотела летать» посвящена первой русской авиатриссе Лидии Зверевой. Почему Вы выбрали именно эту историю?
— Я купила своей, тогда еще трехлетней дочке, книжку-картинку об американской летчице Амелии Эрхард. И когда мы ее посмотрели-почитали, она у меня спросила: «Были ли в России такие девочки?» и «Кто был первой девочкой, полетевшей на самолете?». И я, к стыду своему, поняла, что не могу ответить на эти вопросы. Пришлось лезть в интернет, разбираться. А потом пришла мысль — американцы так здорово пиарят свою Амелию, про нее и книги, и музей, и фильм сняли. А про Лидию Виссарионовну в России словно все забыли. И я решила восстановить справедливость, написать книгу о ней.

— Как проходила работа с архивами при создании книги о Зверевой? Были ли неожиданные находки?
— Архивная работа для меня огромное удовольствие. Если бы можно было ничем другим не заниматься, я бы не вылезала из архивов. Самой главной моей задачей было — разобраться с фейками, которые сложились вокруг имени Лидии Виссарионовны. Она представала в интернете как этакая веселая вдова, которая после смерти первого мужа увлеклась модными в то время аэропланами. Писали, что она делала сама мертвые петли (этот фейк даже пролез в задания ЕГЭ), была путаница с ее настоящей фамилией. Со всем этим удалось разобраться — никакого вдовства не было, фамилия ее единственная и настоящая — Зверева, мертвых петель сама она не крутила, а вот пассажиркой была. Ну и еще, что важно, мне удалось найти дату ее рождения. До этого она не была известна. Вместе с историком авиации Александром Лукьяновым мы разыскали место ее могилы на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, а заодно выяснили, что там было похоронено еще пять военных летчиков, участвовавших в Первой мировой. Их могилы также не сохранились. Есть мечта установить всем им кенотаф.

Еще мне посчастливилось познакомиться с потомками семьи Зверевых и, благодаря им, найти множество уникальных фотографий Лидии Виссарионовны, ее семьи. Часть из них даже попала в книгу. А часть была представлена на выставке в музее Набокова, посвященной этой удивительной женщине и моей книге о ней.
— В «Трёх историях о первой любви» Вы исследуете детские переживания. Почему эта тема важна для Вас?
— Исследование темы детских переживаний — не новая история для детской литературы. Это такое наследие Драгунского, он одним из первых взглянул на детство с этой стороны. Но он писал о детях — ровесниках своего сына. У меня же рядом были мои ученики. И книга родилась из моих наблюдений за ними.

— Вы работали с партией «Единая Россия» над комиксом. О чем комикс? Как возник этот проект? Как родилась идея комикса «Слава Самбо»? Как Вы сотрудничали с художником Михаилом Васильевым?
— Комикс «Слава Самбо» — стал для меня творческим вызовом. Когда депутат «Единой России» Антон Соловьев, который активно занимается популяризацией самбо в России, обратился в редакцию «Петербургского дневника» с предложением сделать комикс про этот вид спорта, наш главный редактор Кирилл Смирнов — предложил этим заняться мне. Родилась идея нашего национального супергероя, который, в отличие от иностранных, получается свои способности не каким-то чудесным образом, а благодаря своему упорству, силе и стараниям. Слава — спортсмен, с детства занимается самбо. И свои навыки использует для того, чтобы защищать слабых. Художник Миша Васильев выиграл конкурс «Петербургского дневника», для «Славы» мы искали лучшего коммиксиста. А дальше… Дальше я придумывала историю, а Миша воплощал ее на бумаге. Судя по отзывам ребят, у нас не плохо получилось. Хотя, до этого я никогда не работала с комиксом.
— В «Пришивной голове и других» Вы сочетаете юмор и серьёзные темы. Как Вам удаётся балансировать между ними?
— Как и в жизни. Нельзя всегда оставаться серьезной, без юмора трудно жить. Он помогает даже в самые тяжелые моменты. А уж в детских книгах без юмора никак.

— Какая из Ваших книг далась сложнее всего и почему?
— Как раз последняя — биографическая повесть о писателе-натуралисте Виталии Бианки. Во-первых, это очень большая ответственность — писать о таком человеке. Во-вторых, у меня был самый строгий первый критик и читатель — внук Виталия Бианки — Александр Михайлович. Ну и, если в ситуации с Лидией Зверевой, материалы приходилось добывать по крупицам, то тут их было так много, что я боялась не справится.
— Что нового читатели узнают о нём?
— Главной моей задачей было рассказать о нем не как о писателе или об ученом-натуралисте, а как о человеке. Что болело, что волновало, что тревожило, а что, наоборот, радовало и давало силы жить. До меня в серию ЖЗЛ написала биографию Виталия Бианки филолог Татьяна Федяева. Хорошая книга, я ее прочитала с удовольствием. Но она такая, наукообразная. Моя, что уже подтвердил Александр Михайлович Бианки, более человеческая и о человеке.
— Вы пишете критические статьи о детской литературе. Какие тенденции Вас радуют, а какие тревожат?
— К сожалению, тенденции в современной детской литературе больше огорчают, чем радуют. Рыночная экономика дает о себе знать, большинство крупных издательств интересуют проекты. Не качество текста, не темы и идеи, не образность иллюстраций, а чтобы стояло на полке в магазине и кричало: «Купи меня». Отсюда аляповатые иллюстрации, одинаковость сюжетов, очень похожие истории и герои, хотя внешне в разных книгах они могут отличаться (например, в одной будут котики, в другой енотики, а в третьей — собачки или роботы), отсутствие глубины, острых тем. Отдельно хочется сказать и о том, что ряд издательств, занимающихся детской литературой, намеренно продвигает нашим детям и подросткам чуждые нам западные ценности. И это не только запрещенное ЛГБТ. Это перевирание истории России, спекулирование на теме репрессии, расчеловечивание, поддержка протестных акций, обесценивание роли матери и семьи как таковой. И, конечно, с началом СВО — обесценивание военных. Тем ценнее на этом фоне подвиг тех авторов и издателей, которые не гонятся за рынком, а отдают себе отчет в том, что они занимаются прежде всего литературой и что они работают в России, для наших детей. Таких мало, но они есть.

— Как, по-Вашему, изменилась детская литература за последние 10 лет?
— У меня недавно вышла статья «Что породила пустота…» в издании «Ваши новости» о состоянии современной детской литературы, которая наделала много шума и возбудила всех наших не друзей либералов. Мне писали и звонили с криками: «Что ты делаешь? Их перестанут приглашать библиотеки! Перестанут закупать их книги!». Все дело в том, что наша детская литература за 10 лет перешла из состояния — «её нет» в состояние «культурной оккупации». Еще 10 лет назад тогда еще молодые и начинающие, как и я, коллеги, сетовали, что их не замечают, не печатают, не дают премий. За это время они, конечно, «подросли» и многие, чтобы получить те самые заветные премии и дорогу в печать, выбрали путь прямого подражания Западу и служения ему и его ценностям, их популяризации. Еще часть коллег, оказалась совершенно беззубой и не способной к разговору на серьезные темы. Они пишут вполне себе симпатичные книжки, которые прекрасно издаются. Но это книжки — хитрые. Здесь и автор такой весь красивый и над миром, и герои все милые, добрые. Но это не литература. Это литературная поделка, не больше. Как говорил Эдуард Успенский мне незадолго до смерти: «Литература — это проповедь. О чем болит — о том и пишите!». Я не верю, что у этих людей ничего не болит и ничто их не тревожит, но они или не хотят или не могут по каким-то причинам об этом писать. В итоге пишут про единорогов, зайчиков, лисят. Животных много симпатичных, выбор большой. А с милыми картинками и слащавой аннотацией есть шанс, что купят. Такие книги в тренде безопасного детства.
— Что Вы имеете в виду под «культурной оккупацией»?
— О культурной оккупации нашей детской литературы я говорила давно, но на меня смотрели как на сумасшедшую. Однако с началом СВО вся эта ситуация обострилась. И не замечать это стало невозможно. Так, например, у нас в стране существует Ассоциация «Растим читателя», которая патронирует в нашей стране деятельность Совета по детской книге России (IBBY Russia). IBBY — это международная организация. Она курирует международные литературные премии — Андерсена, Астрид Линдгрен и еще несколько помельче, формирует почетные списки. Все это страсть как престижно и повод для гордости. Но стоит к этим спискам присмотреться, как понимаешь, что премии эти даются за продвижение тех самых западных ценностей. А по договору, книги победителей этой премии должны переводится на русский язык и продвигаться в России.

Любопытно, что на сайте IBBY есть целых два заявления о конфликте на Украине, где во всем обвиняют нашу страну. Есть заявления по Афганистану, в поддержку Всеобщей декларации прав человека и недискриминации Организации Объединенных Наций. Но нет ни одного заявления против гуманитарного кризиса в Донбассе или заявления о нарушениях прав детей Донбасса, а также приграничных территорий Российской Федерации. При этом на РОССИЙСКОМ сайте ассоциация «Растим читателя» висит заявление РОССИЙСКОЙ секции IBBY, против СВО. И никого это не смущает. И мы еще платим за это «удовольствие» международной организации IBBY ежегодный взнос — 2000,00 швейцарских франков. И знаете, кто руководит Ассоциацией «Растим читателя», которая патронирует в нашей стране деятельность Совета по детской книге России (IBBY Russia)? Ее президент Веденяпина Мария Александровна (она же — директор Российской государственной детской библиотеки) и исполнительный директор Лебедева Анжела Эдуардовна (первый заместитель директора этой библиотеки). А это главная детская библиотека страны, на которую равняются все остальные. Как думаете какие книги они закупают, рекомендуют и советуют читателям в первую очередь?
Кстати, эти российские «прозападные» издательства и авторы, когда началась СВО, дружно подписали письмо против. Но их продолжают возить по стране, рекламировать их книги, организовывать им встречи с читателями.
Либеральные СМИ прямо называют это детской литературой сопротивления, но нашим чиновникам от культуры все это кажется не опасным — подумаешь, детские книги. Видимо, забыли они мысль Сергея Михалкова: «Сегодня дети — а завтра народ».
И все это было бы пол беды, и может, казалось бы, не таким страшным. Но вся эта прозападная тусовка активно не пускает патриотических авторов. Главная библиотека страны только в прошлом месяце закупила всего две детские книги Дмитрия Артиса, и то, я думаю, заставили. Теперь главное, чтобы работать с ними начали, а не просто поставили на полку для вида. А история с прекрасной повестью для старших подростков Анны Вислоух «Зорка Венера», которую она не могла опубликовать ни в одном издательстве и везде получала отказы? Сейчас, общими усилиями, объединили автора с издательством «Питер» и, надеюсь, полноценная книга выйдет. Я знаю, что готовится еще несколько. Но все авторы мне говорят, что получают отказы, как только в издательстве видят тему СВО.

По данным Российской государственной библиотеки, в 2024 году у нас в стране действовало 4 532 издательства и только три из них готовы работать с темой СВО для детей. Что это, если не оккупация? И, понятно, что многие писатели сейчас говорят, что не хотят писать на эту тему. Потому что рискнешь, напишешь — а никто не возьмет. Но писать надо, говорить надо, рассказывать нашим детям о том, что происходит с их страной, с их ровесниками. Несмотря ни на что. Ведь уже в начале Великой Отечественной войны появились произведения для детей. Например, В. Василевская «Дети», Леонид Леонов с книжкой-очерком «Валя Курилов», «Быль для детей» С. Михалкова, «Панфиловцы на первом рубеже» А. Бека, «Александр Молодчий» Л. Славина, «Гвардии рядовой» Л. Пантелеева, «Грозное оружие» В. Кожевникова и многие другие. Стоит брать пример.
— Как Вы оцениваете роль премий (например, «Книгуру») в продвижении детской литературы?
— Честно говоря, никак. У нас в обществе так и не сложилось понимания того, что детская литература — это важно. Вручение премии не становится событием, у автора — хорошо, если берут интервью в отраслевом СМИ, хорошо, если в нем же напишут о книге. И уж, конечно, никто не встает в очередь, чтобы эту книгу экранизировать. С одной стороны, это, конечно хорошо. Ведь та же премия «Книгуру» курировалась уехавшим из России и признанным иноагентом Георгием Урушадзе. Наверное, не надо объяснять, какие тексты, в основном, получали эту премию.
— Почему Вы перешли из преподавания в журналистику? Что Вам дал этот опыт?
— Педагог — это призвание. И это не пустые слова. Чтобы быть хороши учителем, надо быть готовым себя отдавать профессии, детям, родителям. Школа забирает все твое время. И я в какой-то момент поняла, что мне это не подходит. Журналистика в этом плане дает больше свободы.
— Почему Вы заинтересовались темой авиации, ее историей?
— Благодаря Лидии Зверевой, конечно. Я привыкла глубоко погружаться в тему. Когда пишешь о летчице — сложно не начать вникать в дело всей ее жизни, не узнавать о тех, с кем она дружила и общалась. А там — удивительные судьбы, безумно храбрые люди. Сейчас их имена забыты, но не думаю, что ценность для нашей страны они потеряли. На смену им просто пришли новые герои.

— Расскажите о Владимире Гарлинском. Почему его судьба Вас увлекла?
— По началу это был такой исследовательский фан. Я, работая в архивах, наткнулась совершенно случайно на фотографию симпатичного парня. И ничего кроме того, что он летчик и имени и фамилии о нем известно не было. Мне стало интересно, как много я смогу узнать о неизвестном мне человеке с фотографии. В итоге восстановила практически всю его жизнь. Узнала, что он был из того же круга молодых авиаторов, что и Лидия Зверева, и даже потом идентифицировала его на нескольких совместных фотографиях. Судьба его похожа, знаете, на такой авантюрный роман: сирота, воспитывавшийся в Гатчинском сиротском приюте, оказывается героем Первой мировой, а потом, после эмиграции — и вовсе миллионером во Франции. Она с одной стороны типична для того времени, а с другой, как это и бывает с человеческими жизнями, необычна. Захотелось рассказать о нем, а еще, конечно, вообще о том, как происходит исторический поиск, работа с архивами. Такой «исторический документальный детектив»
— Какие сложности возникают при восстановлении биографий забытых героев?
— Когда только начинаешь — не понимаешь как устроена архивная система, куда идти, где спрашивать, какие документы искать. Мне повезло — всегда рядом оказывались люди, готовые подсказать, поделиться, направить. Сложность только в этом. Дальше, когда вникаешь в правила игры, становится просто. Так или иначе информация находится. Иногда нужно подождать, набраться терпения. Но находится.
— Планируете ли Вы новые книги о лётчиках или других исторических личностях? Или, возможно, о новых героях? Героях нашего времени.
— В планах роман о Владимире Гарлинском, еще очень хочется написать детектив в соавторстве с историком авиации Александром Лукьяновым, у него и у меня очень много интересной фактуры. Надеюсь, уговорю его в итоге на такой творческий тандем. Если говорить о современных героях — то мы с депутатом Александром Малькевичем работаем над книгой о событиях в Харьковской области. А там все герои: от простых жителей до врачей и наших военных.
— Как, по-Вашему, привить ребёнку любовь к чтению?
— Тут волшебных рецептов нет. Читать самим, так, чтобы ребенок видел и понимал, что вы заняты не только своим смартфоном. Ну и, конечно, читать книги вместе с ребенком, вслух. Обсуждать прочитанное. Книга должна стать приятным событием в доме, а не наказанием или школьной обязанностью.
— Как Вы относитесь к цифровым форматам чтения? Меняют ли они восприятие литературы?
— Спокойно отношусь. Цифровой формат удобен, особенно если ты в дороге. Если же говорить о восприятии — то да, он убивает ритуал. Одно дело — открыть текст в планшете или смартфоне, и бежать по экрану за буквами. Другое дело — сесть с книгой в удобное кресло, налить чай, шуршать страницами, ощущать запах книги, прикасаться к бумаге. Есть разница в ощущениях.
— Как Вы начали сотрудничать с издательством «Молодая мама»?
— Я как раз закончила свою книгу о Лидии Зверевой и искала издательство. Так как в либеральной литературной тусовке я уже была персонажем достаточно токсичным, понимала, что никто из известных на рынке игроков издать ее не возьмется. И тут случайно познакомились с директором издательства «Молодая мама» Виталием Родиным. Я ему рассказала о книге. Он сначала скептически отнесся, но потом решил почитать ее с дочками. Девочкам понравилось, и Виталий решил рискнуть и издать книгу. Для маленького издательства это был, конечно, подвиг. Тут еще как раз пандемия коронавируса началась. Все было не просто. Но в итоге — книга вошла в каталог 100 лучших книг России для детей в 2024 году. А в этом году стала финалистом Национальной литературной премии им. Гранина.

— Расскажите о работе над книгой о событиях в Харьковской области. Почему Вы взялись за эту тему?
— Мне давно хотелось начать писать о том, что происходит. О дне сегодняшнем, о фронте. Но просто так брать и придумывать из головы, по сводкам, казалось нечестным. А потом Александр Малькевич, который часто выезжает в новые регионы, а также был в Харьковской области во время всем известных событий, предложил написать о них. Так и договорились — от Александра личный опыт и фактура, от меня — умение все это превратить в связный текст. Сейчас главы выходят в «Петербургском дневнике», и я очень горжусь тем, что работаю над этим проектом.
— Как проходило участие в фестивалях «Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗа»?
— Это хорошая писательская школа для начинающих, разбирали тесты вместе с мастерами — Михаилом Ясновым и Сергеем Махотимым. Придумывали как эти тексты улучшить.
— О чем рассказываете в своем тг-канале «Книжный лис» ?
— Телеграмм-канал изначально был, скажем так, для своих. Хотелось где-то поворчать-побурчать, повозмущаться тому, что происходит сейчас с детской литературой. Почему писатели «нетвойнисты» продолжают разъезжать и встречаться с детьми в госучреждениях и за госсчет, в том числе и с детьми участников СВО. Мне кажется, что есть в этом что-то неправильное. Возмущает и то, что другая часть наших писателей предпочитает молчать и не замечать того, что происходит в стране и на фронте. А ведь их спокойная фейская жизнь, кофе по утрам, йога, писательские встречи, красивые фотографии в соцсетях обеспечиваются именно благодаря парням, которые сейчас воюют. Пока они там в грязи, в кровавом поте сражаются, эти милые дамы могут писать свои милые книги. Собственно, я и думала, что просто буду спускать там пар и все.
А потом случилась либеральная истерика, литтусовка не поняла и не приняла моего возмущения (ведь ходили же втихаря, читали), несколько известных либеральных СМИ, у которых нынче отозвана лицензия и которые признаны иноагентами, решили написать про меня, какая я якобы доносчица и как я некрасиво поступаю, когда вывожу на чистую воду «нетвойнистов». И ко мне потянулись читатели. Те, кому не все равно, что у нас происходит с детской литературой. Продолжаю я писать о том же самом — о том, что происходит, кому и куда, как журналист я отправила запрос, что мне на это ответили. Ну и, чтобы как-то развлечь читателей и порадовать, иногда делюсь архивными материалами из детских журналов — картинки красивые, стихи, головоломки.
— Каким Вы видите будущее российской литературы?
— Если судить из дня сегодняшнего, то видится оно мне безрадостным. Если во взрослой литературе и особенно в поэзии более-менее удалось создать паритет, то с детской литературой у нас беда. Вырастет новое поколение, и весь установленный сейчас паритет во взрослой литературе снова сойдет на нет, потому что придет читатель, не готовый к серьезным текстам, к взаимодействию с ним, с острыми темами. Мы снова откатимся к тому, с чем так долго боролись.
— Вы работали в «Комсомольской правде», ФАН, «Петербургском дневнике». Какие темы Вам было интереснее всего освещать?
— Я долгое время работала в происшествиях, взаимодействовала с нашими силовиками, писала о судебных процессах. Мне было это интересно. Ко мне часто обращались жертвы мошенников или какой-то несправедливости. Всегда помогала им, чем могла. Направляла запросы, доставала ведомства, которые могли включиться в решение проблемы. Очень радовалась, когда получалось помочь. Сейчас у меня работа больше редакторская. Но писать все равно не перестаю. В основном уже колонки и статьи на культурную или около культурную тему.
— Какие этические принципы для Вас важны в журналистике? Были ли ситуации, когда приходилось от них отступать?
— Мой принцип — никогда не отступать от этических принципов. Однажды в одном издании меня очень просили это сделать — но я уволилась. Я всегда помню о том, что должна проверять и перепроверять информацию, что я несу ответственность за ее достоверность. Я всегда в своим материалах, если они конфликтные, стараюсь дать слово обоим сторонам. А если в чем-то не разбираюсь, то привлечь экспертов, которые и мне и читателям бы объяснили, как оно все на самом деле. Ошибки — да, бывало, совершала. Но у кого их не бывает. Всегда приносили в редакции свои извинения перед читателями.
— Как опыт учителя повлиял на Ваши книги? Например, в «Пришивной голове» есть ли истории, основанные на реальных событиях из жизни?
— Опыт работы в школе помог лучше узнать детей, научиться не боятся их, разговаривать с ними. В сборнике «Пришивная голова» почти все рассказы так или иначе связанны с мой работой в школе. Это истории, подслушанные за моими учениками.
— Как Вы относитесь к современной системе образования? Что, на Ваш взгляд, нужно изменить?
— Так как из системы образования я ушла много лет назад, то судить сейчас могу о ней только как мама школьницы. Дочь пойдет в третий класс. Вроде не сильно все поменялось с тех пор, как я ушла, хотя Минпровещения все время сообщает о каких-то новшествах. Для начальной школы программа, по которой учится моя дочь, кажется мне методически странной. Мы иногда обсуждаем ее с нашей учительницей. Она согласна. Но у нашего педагога большой опыт работы и она умеет обходить такие моменты. Сейчас готовятся новые учебники, пока в заявлениях все звучит красиво. Хотелось бы, конечно, на практике посмотреть, что там и как будет.
— Нужны ли в школе уроки мужества, а также уроки НВП? И в каком формате?
— Все форматы патриотического воспитания в школе нужны и важны, да и в целом воспитание зря убрали из школы, оставив за ней только «образовательные услуги». Важно то, чем они наполнены — если это что-то для галочки, то пустое. Если педагог, на которого возложены эти обязанности подходит к ним серьезно — думаю, толк и прок будут.
— Каким Вы видите будущее России в целом?
— Единой, сильной, сплоченной.
— Что бы Вы пожелали всем россиянам сегодня? И маленьким, и большим.
— Сил, конечно. Они всегда нужны в не простые времена. Веры. Детям… детям всегда хочется желать мирного неба над головой. Я думаю, сейчас мы за него и сражаемся, чтобы у наших детей оно было.
Мария Коледа
Источник: https://anna-news.info/irina-lisova-kulturnaya-okkupatsiya-detskoj-literatury-obostrilas-s-nachalom-svo/
"ВАШ ЖУРНАЛ – ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК. Я ЧИТАЮ И ЛОВЛЮ СЕБЯ НА МЫСЛИ, ЧТО МНОГИЕ ТЕМЫ МЕНЯ ВОЛНУЮТ. И ДАЖЕ ЕСЛИ Я С КАКИМ-ТО МАТЕРИАЛОМ НЕ СОГЛАСНА, БУДУ ОБИЖАТЬСЯ, НЕГОДОВАТЬ – НО ЭТО ПОТОМ, А ПРОЧИТАТЬ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОЧИТАЮ."
Ирина Ежова, главный врач Иркутского городского перинатального центра
Обсуждения
-
Новые времена требуют новых подходов
Очень жаль. очень. Много слышал об этой газете и ее коллективе. И о редакторе тоже. Суметь на пустом ... -
Кулуарник. Продолжение…
Чувствуется атмосфера! В следующий раз обязательно приду. Люблю искреннее творчество - не на продажу. -
Борзость - гордость миллениалов
Сергей как всегда хорош конечно! Ему надо сборник реплик выпустить. Зашло бы народу -
Как я осталась без Тотального диктанта
Статья понравилась. Автор на частной проблеме (как ТД изжил себя и стал просто обыкновенной галочкой ... -
Искусство любви
Ну потому что он её рисовал