
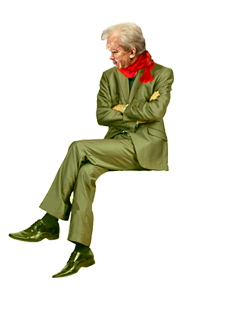

Казалось бы, в истории этой семьи нет ничего необычного. В военные и послевоенные годы так жили все: тяжело, впроголодь, но с открытым сердцем и верой в будущее. Главный герой нашего рассказа давно понял: неважно, из какой ты семьи, кто твои предки и какой они национальности. Главное – быть человеком. Хотя, если говорить о предках, предки-то у него были героические.
Время собирать камни
Интересоваться историей своей семьи сибиряк стал тогда, когда связал жизнь с театром. Театр – это синтез искусств, он объединяет в себе литературу, музыку, культуру. Каждый спектакль – словно соприкосновение с историей. Именно тогда у молодого человека возник живой и неподдельный интерес: как нашему народу удалось победить стальную армаду Гитлера?
Оказалось, история – это близко. Бабушка по материнской линии – Татьяна Павловна, которая вырастила нашего героя и заменила ему родителей, рассказала о своем первом муже. Виктор Николаевич Рыбалкин пропал без вести в годы Великой Отечественной. Какое-то время он был в партизанском отряде. Немцы между собой называли его «Седым» и давали за его голову большие деньги. Бабушке же, как вдове-солдатке, местные власти выдали канцелярский стол да мешок картошки. Так и жили.
Мужчина долго не мог найти следов деда. По справке о смерти, которая хранилась у бабушки, родственники сделали запрос в Киев. Думали, что Виктор Николаевич погиб на Украине. К их большому удивлению выяснилось, что в 1944 году Виктор Рыбалкин занимал должность начальника штаба партизанского отряда под Кировоградом, а потом в составе партизанского отряда «Комсомолец» был заброшен в тыл врага в Моравию, горную область Чехословакии. Судя по всему, Виктор Рыбалкин был опытным военным и состоял в специальном подразделении. В Чехословакии он несколько раз вышел на связь, а потом пропал…
Офицерское дитя
– Мой отец, – рассказывает наш герой, – Георгий Михайлович Магидсон, был кадровым военным. Когда он женился на моей матери, Лилиане Викторовне, ей было всего 18 лет. В 1958 году у них родился я. Жила молодая семья в селе Раменском под Москвой. Когда отец окончил зенитное училище в Ужгороде, его отправили служить в Братск. Об этом мало кому известно, но Братская ГЭС в то время считалась важным стратегическим объектом и была окружена ракетной
дивизией.

Неустроенный быт в бараках, боевые тревоги, казарменный режим…
– Я был офицерское дитя. Наверное, жизнь моих родителей мало чем отличалась от жизни героев фильма «Анкор, еще анкор!». Неудивительно, что молодая семья дала трещину. Что точно между ними произошло – мне неизвестно.
Родители разошлись, а своего единственного сына, которому на тот момент было всего три года, отправили на воспитание к бабушке в Иркутск.
Бабушка тогда жила в Жилкино. Три года войны отработала на заводе имени Куйбышева. С утра и до поздней ночи. Точила минометы. Иногда ночевать приходилось прямо в цеху, на телогрейке. Тогда лозунг «Все для фронта, все для победы!» не был пустым слоганом. За невыполненную норму строго спрашивали – пока рабочие ее не выполнят, охрана с завода никого не выпустит. Потом Татьяна Павловна долго работала на Иркутском мясокомбинате.
С фамилией у нашего Михаила вообще вышла запутанная история. Некоторые «доброжелатели», узнав, что он однажды поменял фамилию, пытались обвинить его: якобы он специально отрекся от своей настоящей фамилии, выбрав для себя более «удобную». А дело было не в удобстве. Просто бабушка записала его на свою фамилию, которую она взяла по второму мужу, и хотела, чтобы внук продолжил его род.
В 16 лет при получении паспорта подросток с удивлением узнал – у него другая фамилия. В 23 года, чтобы не обижать любимую бабушку, Михаил поменял фамилию Магидсон на свою нынешнюю:
– Смешно, чтобы я, трехлетний пацан, в том возрасте мог понимать, что произошло. Случилось так, как случилось. Я просто вернул себе ту фамилию, с которой я вырос и на что имел полное право.
Через много лет Михаил отыскал родителей и нашел в себе силы их простить. От своих корней нельзя отказываться. Да и как можно было отречься от деда – Михаила Исидоровича Магидсона, папиного отца, который все годы войны проработал на фронте хирургом. Он ушел на войну в чине капитана, а закончил ее в звании подполковника.
После примирения отец, Георгий Михайлович, передал сыну фотографии деда и прадеда, их документы, метрические свидетельства. С этого времени Михаил заинтересовался судьбой русской императорской армии. Ведь его деды и прадеды были личностями незаурядными. Сергей Александрович Козловский, прадед по отцовской линии, – генерал-майор русской армии, участник трех войн. Сохранилось даже написанное его рукой завещание: «Тысяча девятьсот четвертого года, января тридцать первого дня, город Чернь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я, нижеподписавшийся командир 19-го Восточно-Сибирского стрелкового полка…», – тогда вера у русских воинов была в крови.

Прадед по материнской линии – иркутянин Павел Гаврилович Ощепков – был Георгиевским кавалером, воевал на Первой мировой. Бабушка рассказывала, как они в детстве играли его наградами. К сожалению, ничего не сохранилось – все растеряли.
В семье нашего героя, как и в семье многих сибиряков, перемешалось много кровей – русская, еврейская, польская (прабабушку по материнской линии звали Марианна Станиславовна Россальская), но он никогда и не думал отрекаться от своих предков.

– Это ведь моя история, а через нее, как через призму, проглядывает история всей страны, целой эпохи. Разве можно отказываться от таких родственников? Я ими горжусь и чту о них память.

Родом из детства
Михаил признается, что душа его «напиталась из детства». Особенно почему-то запомнилась учеба с 1 по 4 класс в Жилкинской школе. Спустя годы выяснилось – на втором этаже школы когда-то размещалась келья святого Сафрония. До революции часть Жилкино принадлежала Вознесенскому монастырю. Большевики пришли и всё разломали, а в монастыре устроили клуб, где зажигала местная молодежь.
К православию Михаил шёл постепенно. Он крестился в 1984 году, когда за подобный поступок в СССР можно было серьёзно поплатиться. Примерно в это же время он помирился с родителями и узнал много интересного о предках, для которых вера и служение Отечеству были неотделимы.
– Хотя все мои родственники и были кадровыми военными, я никогда не мечтал связать свою жизнь с армией. Меня больше тянуло к искусству, к театру. И все же мне с товарищами по театру пришлось несколько раз принимать участие в боевых действиях в Приднестровье, Югославии, Чечне. Я знаю и видел, что такое смерть. Когда нам в Чечне рассказали, что делают чеченские боевики с русскими пленниками, мой друг – актер Александр Михайлов – полетел с нами в вертолете с зажатой в кулаке гранатой. Это потом нам было смешно, а тогда… Не скрою – боялись все, потому что мы живые, из плоти и крови. И все шептания за моей спиной, для чего я оказался в православии, обходят меня стороной. Веру принимают не для того, чтобы куда-то продвинуться в жизни.
Когда в 2000 году местные власти отдали одно из зданий бывшего Вознесенского монастыря – Успенский храм в поселке Жилкино, где располагался клуб, обратно православной церкви, Михаил вздохнул с облегчением – пришло время собирать камни. В то время при театре действовала секция русского рукопашного боя. Корнев собрал молодых ребят и… поехал с ними в храм. Их встретил голубоглазый худощавый батюшка – отец Дионисий. Работа нашлась сразу – нужно было убрать с чердака несколько тонн голубиного помета, иначе могла рухнуть крыша. Алтарь большевики намертво замуровали бетонной плитой. Как ни пытались пробить и просверлить ее молодые накачанные ребята – все бесполезно. Тогда Корнев предложил раскачать плиту руками. И чудо произошло: бетонное безобразие, созданное большевиками «на века», рухнуло. Потом пришлось восстанавливать алтарь. Как говорит про своих актёров-сподвижников их художественный руководитель и директор: «Мои казаки – ренессансные личности. Они умеют всё: и песни петь, и дома строить, и воевать, и алтари расписывать». Тот восстановленный алтарь до сих пор сохранился в храме.
– Надо, как сказал великий русский поэт Николай Некрасов, – «Богу и людям служить». Бабушка меня учила, что Господь всегда дает человеку выбор, и его судят прежде всего по делам и поступкам. Пусть я не совершил ничего великого, но я стараюсь жить так, чтобы моим потомкам не было за меня стыдно. Для меня было бы высшим признанием, чтобы они, ткнув пальцем в мою фотографию, сказали: «Вот этот дед был настоящим мужиком!».
Семейный альбом Михаила Корнева рассматривала Александра Кирияк
Air Jordan 1 Dark Mocha 555088-105 2020 Release Date- Без лести вам говорю: "Иркутские кулуары" придают нашему городу дополнительную уникальность.
Виктор Кузеванов, кандидат биологических наук, советник мэра г. Иркутска, председатель Общественной палаты третьего созыва
Комментарии